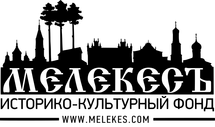Проклял Мелекесс
Автор - Лидия ПЕХТЕРЕВА
Для известного переводчика и поэта, которому пришлось несколько лет в детстве прожить в нашей области, Мелекесс, ныне Димитровград, на всю жинь запомнился проклятым городом.

Поэт и лингвист Геннадий Русаков хорошо известен не только в нашей стране. С 1967 года он работал синхронным переводчиком в секретариате ООН в Нью-Йорке и Женеве, трудился в Комитете за европейскую безопасность в Москве, в МИДе. Известен Геннадий Русаков и переводами литературных произведений. Он переводил северокавказскую поэзию и прозу, занимался переводами европейской и американской классики, старинной итальянской поэзии, современной канадской и люксембургской литературы.
Но прежде чем начать переводить чужие произведения, Геннадий Русаков сам занялся поэтическим творчеством. Причем довольно успешно.
Впервые его стихи были опубликованы в периодике в 1955 году – начинающему поэту тогда было всего 17 лет. А в 20 лет, когда вышла его первая книга стихов «Горластые ветры», Русаков написал «Мне двадцать. Я уже поэт».
За последующие годы он издал семь своих сборников, получил премию журнала «Знамя», премию Аполлона Григорьева и сам стал объектом перевода – его стихи печатались не только на русском, но и на французском языках. Высоко творчество поэта ценил Арсений Тарковский, которого считают учителем Русакова.
Лихачество, с которым совсем еще юный Русаков (на снимке) позволил себе называться поэтом, легко объяснимо ходом его жизни.
Его отец погиб в начале Великой Отечественной под Ленинградом, когда сыну было три года, мать скончалась от воспаления легких в 1943-м. Мальчишка, у которого осталась только бабушка, попрошайничал и жил на улице.
После войны бабушка отдала его в детдом, чтобы спасти от голода, но и оттуда он несколько раз сбегал. А потом случилось чудо, указавшее, что не такой безнадежный жизненный путь приготовлен для этого мальчишки. В 1950 году 12летний Гена написал самому Иосифу Сталину. Правильно выстроил текст: упомянул о героически погибшем отце и желании продолжить начатое им дело по защите Родины и попросил определить его в суворовское училище. И генсек на просьбу ребенка откликнулся. Печататься в газетах Русаков начал именно в училище, а к его окончанию была готова и первая книга стихов поэта. Ее выход определил его дальнейшую судьбу – вместо обещанного выполнения долга по защите Родины он поступил в Литинститут. Правда, неспокойное прошлое помешало окончить престижное учебное заведение. «Мне надоели разговоры по принципу: «Старик, ты – гений, я – тоже гений», – объяснял свой поступок в одном интервью поэт.
В другом разговоре с читателями Геннадий Русаков признавался: «Я очень рад, что у меня плохая память.
Если бы я помнил все хорошее, что здесь говорилось обо мне в течение одного вечера, то я был бы очень несчастным человеком, я бы думал о себе то, чего о себе думать не надо». Но сказать «спасибо» своей плохой памяти поэт мог не всегда. Так, тема сиротского детства стала одной из главных на протяжении многих лет его творчества. А вспоминая детство, поэт каждый раз рассказывает и о прошлом нашей области времен войны.
Перед началом Великой Отечественной его родители работали в Мелекессе, ныне Димитровграде, там умерла его мать, там он начал беспризорничать.
Вспоминая те годы, поэт повторяет засевшее, видимо, очень глубоко – «проклятый Мелекесс». Среди его интервью упоминаний нашего города можно найти немало. К примеру, следующее: «В это время Мелекесс, где я жил, был городом, в котором половина жителей сидит, а вторая ждетотсидки. С гордостью говорили: Одесса – мама, Ростов – папа, а Мелекесс – их сын родной». А в стихах образ города буквально преследует поэта: «Пора. Пора вернуться в пятьдесят девятый, в позор сиротства, в гиблый Мелекесс», «Все я помню: города и веси, волгодоны, планы и гробы… Бабка голодает в Мелекессе. Я при деле, но легчаю в весе на глазах у нищенки-судьбы», «Ой ты, мама-родина, тополиный лес! В сумерке смородинном город Мелекесс». Есть у Русакова и целые стихи, посвященные незабывающемуся городу. В них «проклятый» поэтом Димитровград вполне узнаваем и сейчас: «Совсем не спящему, мне снится проклятый город Мелекесс. Пруды, бульвары, пивзаводы…», «Город лживый, нелюбимый.
Немилый – пивзаводы, Литейка, пруды… Эти пьяные липы горсада, этих чайных татарских содом. Даже помнить об этом не надо – как-нибудь, перед смертью, потом…».
Лидия ПЕХТЕРЕВА.
Дата публикации: 08-05-2010
http://sim-k.ru/2010/05/08/proklyal-melekess/
из интервью:
— Ваши строки о детстве с болью: “Я от плача осип в детдомах...”; “губы жжет сиротство”. “Сиротства дырявая дудка/так тонко поет на ветру!” “Мне горечь взросления губы свела...” Свой род и наследство вы называете “худым”. Что случилось с вашими родителями?
— Репрессии их не коснулись. В этом отношении наша семья достаточно благополучная. На одной из немногих сохранившихся у меня фотографий отец запечатлен вместе с Крупской.
Родители были преподавателями Пединститута в Мелекессе, убежденными, думаю, партийцами — учились в политпросветшколах, учили других. В 1941-м отец ушел на войну, стал политруком роты автоматчиков, погиб, насколько я знаю, в первом же бою под Ленинградом. Мама, как только в городе открылся госпиталь, перешла работать туда сиделкой, простудилась, открылось крупозное воспаление легких. Сгорела буквально за несколько дней. Шел 1943 год. Я остался с бабушкой. Мы явно загибались. Времена были тяжелые. Если не ошибаюсь, году в 45-46-м поехали с ней на Воронежчину, где оставалась какая-то родня. Нас приютила моя крестная, которая жила в селе, названном, как ни странно, Русаново. Но и там был голод. Бабушка отдала меня в детдом. Из любви к свободе я долго казенных стен выдержать не мог, убежал, меня поймали. В милиции в побеге не сознавался, клялся, что ехал куда-то по делам, но в пути у паровоза спустилась шина... Не мог понять, почему меня очень быстро подловили на вранье. Потом опять сбежал из детдома. И около года беспризорничал на железной дороге от Борисоглебска до Рязани.
Я был солдатом шелудивой роты,
я умирал на всех товарняках
и брал свои грошовые высоты,
вползал туда на содранных руках.
Таких, как я, много было. Нас регулярно снимали с поездов, сажали в детприемники, где нравы были еще те! В конце концов меня определили в Спас-Клепиковский детдом под Рязанью, стоявший на торфяных болотах. Там нас били. Думаю, не по злобе — мы ведь были зверятами и больно кусались. Наверное, иначе с нами было нельзя. Поэтому я и говорю в стихах, что “от плача осип в детдомах...”. Сколько же мне тогда было? Лет восемь-девять. Не ахти как много. Одиночество... Тогда хлебнул его с лихвой.
Вообще, воспоминания о тех годах довольно смутные. Помню, что очень хорошо врал. В наших ребяческих стаях неделями рассказывал какие-то завиральные истории. С приключениями, невероятными похождениями. Не знаю, откуда все это у меня бралось. Вчера попытался что-то в том же духе рассказать сыну, но вскоре понял, что потерял этот дар, и свернул на проторенные сказки.
А в те края, на Воронежчину, я с тех пор не возвращался. Даже чисто из суеверия. Почему-то мне кажется, что этого делать не стоит...
СТИХИ
Когда в апреле верба зацветает
и машет в окна веткой налитой,
душа так тихо, так печально тает
перед её недолгой красотой.
А дни легки и пасмурны без грусти.
Непрочен сон. Несуетны дела.
…Мне славно вырасталось в захолустье,
покуда верба пенилась-цвела.
За мехзаводом было видно с Горки
свечение загаженных прудов,
собес, вокзал, мордовские задворки,
базары с копошением рядов.
На танцплощадке бились смертным боем
“студенты” с мелекесскою шпаной.
Наутро снова небо голубое,
и снова утешает тишиной.
И не хотелось ничего не свете.
И не было, признаться, ничего.
Лишь верба усыхала в самом цвете
неряшливого детства моего.
***
20
Лейтенантской веселой походкой
и подковками тонко звеня,
я ходил по земле моей кроткой,
благодарно носившей меня.
Рыбы плавали, птицы летали.
Ах, деревья и травы цвели.
Невозможного мира детали
разбегались до края земли.
А в мордовской глуши Мелекесса
я и сам ненароком летал:
что во мне настоящего веса?
Лишь душа да подковок металл.
И хорошая девушка Люда
мне махала рукой из окна -
из судьбы, из незнанья, оттуда,
где поныне все машет она.
***
...То было время,
великое в своей жестокости
и страстности. И мы
в нем жили.
Теперь я знаю: мы и были время.
Петров и Сидоров, Горбенко, Люда, я,
Андреич, Вера, Вовка-недомерок,
живые, мертвые и ждущие рожденья —
мы были время.
Нас несла река,
а мы в ней были и вода, и берег.
Кружило солнце. В небе, поперек,
огромным прочерком редел форсажный след.
Подкрылками треща,
я мерил день длиной перемещений:
глухая стрекоза, чирок, пчела —
не помню, кто.
У “Сокола” трезвонили трамваи.
На Алабяна Люда открывала
слепящее окно в бессмертье, в тридцать лет,
которые кончались под Нью-Йорком,
над бешеными кручами Салева
и возле грядок Кащенко... Пора.
Пора вернуться в пятьдесят девятый,
в позор сиротства, в гиблый Мелекесс,
в кусочничество, в “Житие Христа”,
где выцветший от старости осел
и колченогий Иисус с какой-то веткой,
немыслимые шляпы саддукеев.
И папа за спиной у Крупской... Нет,
жена-птенец,
ты закрываешь окна,
тебя зовут Татьяна,
ты жива.
И я приснюсь тебе
наперсточником с Курского вокзала.
И время-гаечка склюет с окна мой хлеб.
И я, с разбитым ртом,
как рыба на кукане,
опять о память бьюсь
и закатил глаза.
***
Где ты, мати, блукаешь по свету,
серый плач по дорогам кропишь?
Никого у тебя больше нету...
Только я, подамбарная мышь.
Мне ячменные снятся волокна,
и над зыбкой дыханье зерна.
Желтым временем крашены стекла.
Досыпает большая страна.
Мати, мати, как жестко и точно
по орешникам жёлуди бьют!
Как сгущается воздух проточный,
выше облака хором поют!
Честно мужество корня и глины.
Четок след молодой колеи.
Мати, мати, где голос твой длинный,
мелекесские косы твои?
***
“Ни о чем не просить, не учить, не являться примером,
быть не первым, но третьим, молчать, не искать похвалы...”.
Сколько я этих правил оставил в блокнотике сером,
рижской кожи с тисненьем, где рано затерлись углы!
Я влюблялся в поэтов совсем невысокого роста,
обходя великанов — по малым размерам души.
Как же медленно сходит проклятая эта короста —
стыдной робости духа, и тяга служить за гроши!
Как мне долог мой путь и обрыдли настольные книги!
Мне бы памяти, воли, просевшего дома в Горах,
чтоб вернулись ко мне мелекесские урки-барыги,
под гитару запели и тут же рассыпались в прах;
чтобы страстное зренье с его семикратным охватом,
в детской жажде познанья сокрытых пружин бытия,
вспламенилось любовью и каждый увиденный атом
согревало, как будто в нем спрятан незачатый я;
чтоб навстречу себе, из покорности, блуда и страха
продираться сквозь время, отшвыривать локтем года;
чтоб каштановым пеплом дотлела на теле рубаха
в пьяном уксусе пота и честном запале труда;
чтобы имя сказать и назвать этот мир в одиночку,
все отдать, не запомнить, Творцу и творенью грозя
за какую-то малую, хилую, смертную строчку,
без которой на свете мне жить почему-то нельзя...
***
2.
Ах, какое время отгремело!
Лживое, счастливое, моё…
Раздарило то, что не имело.
Всё в кровище, а белее мела —
собирает медь на дожитьё.
Как ни мажь ему ворота варом,
ни считай прорехи и нули —
всё равно я жил его угаром,
обжигался веком-скипидаром
на моей одной шестой земли.
Всё я помню: города и веси,
волгодоны, планы и гробы…
Бабка голодает в Мелекессе.
Я при деле, но легчаю в весе
на глазах у нищенки-судьбы.
Жизнь моя, ты здесь, в каком-то шаге…
Дотянусь и крикну: “Никому!”
Никому — парады и гулаги,
пятилетки, шкеты-бедолаги!
Всё, что нажил — я с собой возьму.
***
Муравьиная кучка, забитая в щель тротуара,
мокрый запах соломы, вагона блажной перепляс...
Ну а если по правде, то этого, Господи, мало
для того, чтобы время стояло водою у глаз.
Мало, Господи, мало, и бренные это приметы.
Да и сам я не нужен творенью для радостных дел —
для просторных закатов твоей бесхозяйственной сметы,
про которых я тоже когда-то, ликуя, трындел.
Мне сегодня для воли достанет шестнадцати строчек.
Остальное — довески, любовей забытый озноб,
продолжение рода, анкетный задиристый прочерк
возле пятого пункта, и детских ладошек прихлоп.
Мало, Господи, мало, ещё добавляй для довеса,
чтоб глядеть, холодея, на лысое темя бугра,
чтобы вспомнился снова блатной говорок Мелекесса...
И у края столетья залязгали в ночь буфера.
***
Высокие дожди пришли из-за Коломны,
совсем издалека, от самых Луховиц,
где ночи коротки, а зарева огромны
и местные ветра в хлеба ложатся ниц.
Учись, душа, учись покорности природы,
большим её дождям и медленности дней!
Ока уже полна, на пойму гонит воды
и топит лозняки, ныряющие в ней.
Пристрастие к стране, не знающей предела,
пометило меня своей дамгой-тавром.
Я так всю жизнь любил её большое тело
и думал про неё в разлуке за бугром!
Про копошенье сфер над приозёрским лесом
и полувнятных сёл размытые огни.
Про город, что я звал когда-то Мелекессом...
Но больше нет его среди моей родни.
***
Когда рукастный век берёт меня в охапку
колени подвернув, как хилому птенцу,
я память волочу, распоротую папку —
за лямки, на весу, ошмыгав по торцу.
Что помнил — позабыл, что забывал — вернулось.
Раскидан на полях капустный вялый сор.
В бодыльях шепчет ночь, сады — одна оснулость,
и некому укрыть сезонный их позор.
Я старости моей благославляю иго.
Я ровня дням моим и вписан в тот же ГОСТ.
Смотри, душа, смотри, и помни, торопыга,
как памяти моей вздувается компост.
Как в месиве годов, в непроворотной каше,
взбухают голоса, обрывки снов и дат,
как кто-то говорит: «Смотри, хоронят Клашу»,
а Клаша — мать моя, и дворник бородат,
и пахнет Мелекесс проказой Черемшана,
отец уже убит, а Люда умерла ...
Нет, я ещё кадет, ещё покуда рано —
там будут тридцать лет и выгорят дотла.
Кто выжил, тот придёт, а мёртвые приснятся.
У них свои пути, мы им не сторожа.
...Я так и не успел с нелепым веком сняться,
за лямки, на весу, судьбу свою держа.
***
Я хожу, как танцую на ловкой пружине подметки.
Я по лестницам сыплюсь, как брошенный горстью горох.
Наплевать мне на возраст, достоинство лет и походки:
я чумной, я котлеты недавно сменил на творог.
И сжимается сердце, подростковым глупостям радо...
Я из хилого рода, а все побогаче бомжей:
из тамбовского причта — похмельных дьячков без разряда,
из внезапного порха бессмертных хоперских стрижей.
Откатились и стихли мои мелекесские грозы.
Я, как в старость, по горло врастаю в самарский песок.
Мне глаза заслонили трескучие Божьи стрекозы
и тихонько садятся ко мне на пригретый висок.
...Я хожу, как танцую, и пьян от шмелиного гуда.
Завершается время печалей и бронзовых мух.
И уже над садами, совсем неизвестно откуда,
на копеечной нитке качается ласточкин пух.